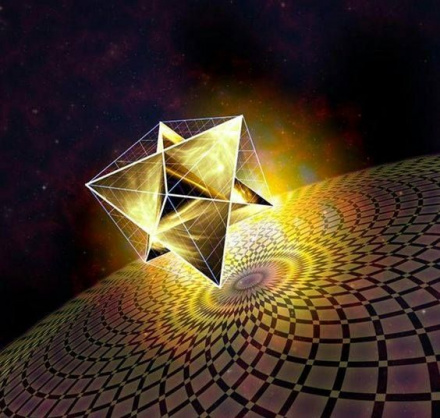«Гефсиманский сад»: о чем главное евангельское стихотворение Бориса Пастернака
https://foma.ru/gefsimanskij-sad-o-chem … rnaka.html
«Гефсиманский сад» — один из ключей к пониманию всего романа «Доктор Живаго». Именно этим стихотворением завершается главная книга Бориса Пастернака. О чем этот пронзительный поэтический текст? При чем здесь Гамлет? Чем интересны библейские стихи Пастернака?
Борис Пастернак. Гефсиманский сад.
Мерцаньем звезд далеких безразлично
Был поворот дороги озарен.
Из первых двух строк следует, что это стихотворение - о глупости автора, который не понимает смысла слова "озарён", и у которого потому не "скользящий по-горизонтали" тёплый свет восхода или заката озаряет картину пейзажа, а (слабенькое - на деле) свечение "высокого звёздного неба" ночной пейзаж.
Дальше:
Дорога шла вокруг горы Масличной,
Внизу под нею протекал Кедрон.
Там что ли кольцевые гонки проводятся?
А дорога по склону скорее кряжа, чем горы извивается спиралью, а его не огибает.
Елеон (Масличная гора) представляет собой короткий горный кряж, облегающий Иерусалим с востока и ограждающий его от разрушительного соседства пустыни.
А Кедрон - это, в первую очередь долина, ибо "по представлениям мусульман, в долине Кедрон будет проходить Страшный суд", а ручей в ней называют то Кедроном, то Тихоном.
Кедро́нская долина (от ивр. נחל קדרון, Нахаль Кидрон — «ручей Кидрон»; араб. وادي الجوز, Вади аль-Джоз; также просто Кедро́н или Кидро́н, поток Ке́дрский) — долина, ограничивающая Старый город Иерусалима с востока и отделяющая Храмовую гору от Елеонской, многократно упоминается в Библии.
Долина Кедрон имела важное значение в жизни местных племен: здесь протекает ручей Тихон, снабжавший водой древний Иерусалим.
В Ветхом Завете упоминается Иосафатова долина (ивр. עמק יהושפט, эмек Йехошафат), «долина, в которой Бог будет судить». Долина фигурирует в пророчествах иудейской эсхатологии, согласно которым в конце войны Гога и Магога народы будут перенесены Богом в Иосафатову долину и осуждены за зло, причинённое Израилю. Обычно считается, что под этим именем имеется в виду Кедронская долина.
Согласно христианской эсхатологии, в долине будет проходить Страшный суд.
Дальше:
Лужайка обрывалась с половины.
За нею начинался Млечный Путь.
С половины чего?
"Гений" не рассмотрел?
И "обрываться" может дорога, но никак не лужайка, которая "не тянется".
Дальше:
Седые серебристые маслины
Пытались вдаль по воздуху шагнуть.
С "оборванной лужайки"?
Ну так их из-за обрыва видно быть не могло, ибо "шагнуть" они пытались, падая.
Дальше:
В конце был чей-то сад, надел земельный.
Учеников оставив за стеной,
Он им сказал: «Душа скорбит смертельно,
Побудьте здесь и бодрствуйте со Мной».
В конце чего?
"Оборванной лужайки"?
Не слишком ли она была большой тогда?
И не смешно ли видеть, как Иисус кричит что-то ученикам из-за стены...
И получается, что он "скорбел" с одной стороны стены, а его ученики впадали в сон с другой?
Но вот тут написано, что он вошёл в сад вместе с учениками:
Сад, в который вошел Иисус с Апостолами, был Его любимым местом уединения и отдохновения, куда Он часто уходил из Иерусалима.
И дальше:
Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь как смертные, как мы.
От противоборства с кем, с Богом?
Ибо это ведь Бог "присудил" ему "чашу" (страданий):
Он отошел от них, пал на землю и молился; и они слышали, как Он начал молиться, чтобы, если возможно, миновал Его час сей; и говорил: Авва! Отче! все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня (Мк 14, 35–36). О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем не Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22, 42).
Так что, как видите, богоборцем он был ещё каким...
А "чудотворством" он немало позанимался за три года своего проповедничества, а как только предался воле божьей - так его "могущество" тут же и иссякло (как вы помните, после этого "моления" появился Иуда со стражниками, и дальше все делали с ним, что хотели, били, унижали, требовали казнить и распяли, пикой в сердце кололи, а он ничего с этим поделать не смог).
Так что получается, что как и утверждали его недоброжелатели, исцелял страждущих он, и воскрешал умерших, и пять тысяч кормил пятью хлебами - нечистой силой.
И как видите, это не я сочинил, а это следует из Евангелия.
А я с самого начала, с момента получения первой инициации, давшей мне пусть ерундовые, но "сиддхи" ("сверхспосорбности"), говорил, что соблазнять людей "чудесами" - грешно, и без опоры на какие-то "писания", а по внутренней убеждённости.
И про Иисуса говорил, что после того, как он трижды отрёкся от употребления "сиддх, к применению которых склонял его нечистый дух, он во всю ими стал пользоваться по понятным, как говорится, причинам.
За что и заплатил.
Согласно евангельскому рассказу, после своего крещения (Марк в своём Евангелии ставит акцент, что это произошло немедленно после крещения) Иисус Христос, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришёл на землю. Иисус сорок дней «был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал» (Лк. 4:2). Тогда приступил к нему Дьявол и тремя обольщениями попытался соблазнить его на грех, как всякого человека. После третьего искушения, по словам евангелиста Матфея, «оставляет Его диавол, и сё, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4:11).
Ага, "ангелы".
И "ангелы" эти небось и вошли в евреев, встречавших его как царя в воротах Иерусалима.
А на самом деле, конечно творимые им чудеса убедили их в его мессианстве, и естественно, что именно мессию они и захотели видеть своим царём.
А когда он не оправдал их ожиданий, они его и отправили на крест.
А Пастернак продолжает "философствовать", "забыв" только сказать, кому "даль" казалась краем, и для кого вселенная стала необитаемой (но это ведь неважно. главное - это "выразить чувства", а не "вдаваться в подробности"):
Ночная даль теперь казалась краем
Уничтоженья и небытия.
Простор вселенной был необитаем,
И только сад был местом для житья.
И дальше пошло-поехало - край стал провалами, и чёрные провалы стали пустыми, да ещё и без начала и конца (надо же накал чувств как-то выразить):
И, глядя в эти черные провалы,
Пустые, без начала и конца,
Чтоб эта чаша смерти миновала,
В поту кровавом Он молил Отца.
И потом "по ходу пьесы" произошла неприятность:
Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.
И смотрите, каким гордецом тихоня Иисус оказался, он, оказывается, считает себя не иначе, как сверхчеловеком, а своих учеников - сырой землёй у его стоп, и на казнь, оказывается, он сам себя предал:
Он разбудил их: «Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».
А дальше уже и рифма вышла из-под контроля "взволнованного поэта" (я этого ждал, ибо не раз видел, как человек, затягивая текст, начинает его портить, как только может):
И лишь сказал, неведомо откуда
Толпа рабов и скопище бродяг,
Огни, мечи и впереди — Иуда
С предательским лобзаньем на устах.
И отнюдь не бродяг привёл Иуда, и не "лобзанье" он принёс за пазухой, а зависть, а поцелуй, как известно, был указателем для стражников того, кого следовало хватать.
А дальше "случился слом размера лишним слогом" и "отпор мечом головорезам" (правда, уже в следующей строке выяснилось, что не "отпор", а "отрез", а "головорезов" продиктовали автору его "чувства", ибо в Библии стражники никому ничем не угрожали, и слова Иисуса Пастернак выдумал (ибо требовалось чем-то место заполнить пустое)):
Петр дал мечом отпор головорезам
И ухо одному из них отсек.
Но слышит: «Спор нельзя решать железом,
Вложи свой меч на место, человек.
И вложить меч можно лишь в ножны, а "на место" его кладут.
Да и спора никакого не было, а было обыденное задержание доселе скрывавшегося подозреваемого.
Ну и пошла дальше никчёмная и невыразительная тягомотина ("внутренний монолог героя") - топтание на месте вместо "развития сюжета":
Неужто тьмы крылатых легионов
Отец не снарядил бы Мне сюда?
И, волоска тогда на Мне не тронув,
Враги рассеялись бы без следа.
И не "тьмы", а "тьму", и не легионы бывают крылатыми, а ангелы, из коих они составлены.
А это уже "внутренний монолог автора" потянулся (за строчку небось платили (шутка конечно, но дело у автора совсем на месте встало, а для искусства это хуже всего, ибо для искусства это смерть)):
Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святынь.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пускай же сбудется оно. Аминь.
И автор уже не замечает, что "страница, которая дороже святынь", сильно напоминает бамажку, которой вдруг не оказалось в туалете в критический момент.
А дальше у автора "ход веков" загорелся, а (непонятно, какая) притча оказалась "страшно величавой", а его герой из-неё готов умереть (сплошные загадки у него в финале, как видите):
Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
И наконец следует то, из-за чего эта невразумительщина была признана шедевром:
Я в гроб сойду и в третий день восстану,
И, как сплавляют по реке плоты,
Ко Мне на суд, как баржи каравана,
Столетья поплывут из темноты».
И как видите, эта "звонкая фраза" составлена неграмотно, ибо по логике те, кто сплавляют баржи, должны "сплавить" и столетия. а у автора они "поплыли" сами, без посторонней помощи.
И эта несомненно "выстраданная" (вымученная) неудачная концовка напомнила мне таковую же у Бродского из разобранного мной одного знаменитого, недавно тут упоминавшегося, его стихотворения:
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
Последняя строфа - во всей "необъяснимой" её бессмысленности (плюс пара плохих рифм), полностью:
Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необьяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
И ещё у него есть пара звучных "фишек" (и известно, что отнюдь не только благодарности он рассыпал из Америки, и умирать на Васильевский остров не заявился, как обещал, ибо был обычным, не знающим себя, обывателем (а своих читателей оттого - обувателем)):
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
И:
Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров
я приду умирать.
(а болваны млеют от звучания любых бессмыслиц, а если говорить серьёзно, то естественно, что для людей второй мерности пишут люди второй мерности ("каков читака, таков и писака"), и обе стороны неизменно остаются довольны результатом)
А я пишу зачем-то без предлога
(не уповая даже - на что-то с чем-то Бога).