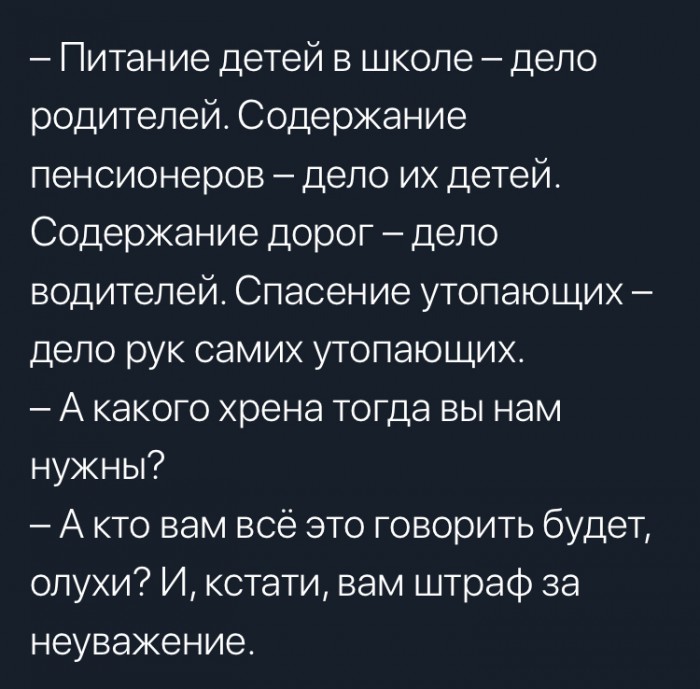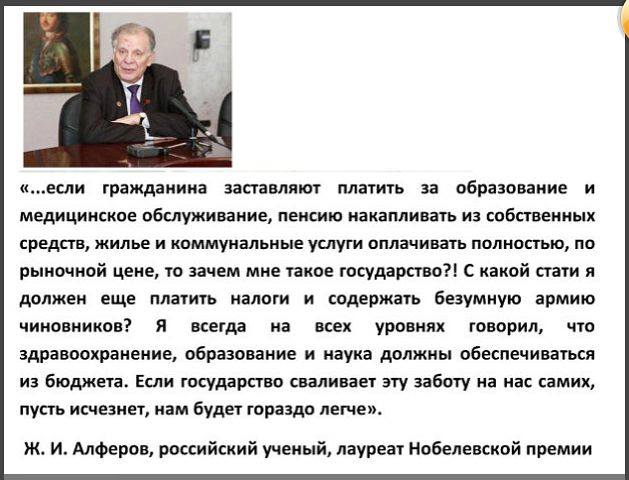В философии буддизма, выросшей из корней традиционной индийской религии, по некоторым причинам идея «космического» Атмана, парящего выше добра и зла, была отвергнута, дабы заменить ее более приземленной концепцией «природы Будды», потенциально присущей сознанию каждого человека.
Для нас, однако, во всей этой истории важны не столько тонкие нюансы конкурирующих философий, сколько единые физико-математические аспекты общей картины. В частности, древние мифорелигиозные предания как правило сосредоточены на собственно «птицах души и разума», в то время как не менее важная структура дерева, на котором птицы сидят и кормятся, остается почти не исследованной.
По этой причине самое время вспомнить о примечательной, недавно появившейся книге в тему — от весьма авторитетного математика Дэвида Мамфорда и еще двух его коллег. Работа носит довольно необычное для математической книги название «Ожерелье Индры. Видение Феликса Клейна» и посвящена она вот каким вещам.
Феликс Клейн, один из великих математиков XIX столетия, в весьма раннем возрасте выдвинул знаменитую ныне Эрлангенскую программу, направленную на сведение всех разрозненных ветвей геометрии в единую и цельную структуру.
На протяжении десятилетий целенаправленно работая над воплощением этой программы, к концу века Клейн сумел осуществить замечательный синтез, обнаружив поразительные связи между идеями из совершенно различных и далеких друг от друга областей математики.
Более того, новаторские подходы Клейна к объединению геометрии на основе расширенного понимания симметрии не только оказали значительное влияние на развитие физики XX века, но и во многом опередили свое время. Важные следствия его работы ученым удалось понять лишь почти столетие спустя, когда были освоены компьютерные исследования в области детерминированного хаоса и фрактальной геометрии.
В частности, когда с начала 1980-х годов в науке с подачи Бенуа Мандельброта пошла волна увлечения вычислительными экспериментами на основе компьютерной графики, Дэвид Мамфорд особо заинтересовался в этой связи наследием Феликса Клейна.
Среди множества интересных открытий Клейна еще в XIX веке были известны его математически строго рассчитанные рисунки, получаемые бесконечным повторением простых отражений относительно окружностей. Удивительные в своей красоте узоры рождались как нарастающее число симметричных искажений, вызывающих быстрое сжатие исходной композиции.
Преобразование (именуемое отображением Мебиуса) действовало так, что в конечной области умещалось бесконечное число бесконечно сжимающихся и сгущающихся плиток. Итоговые же картинки таких преобразований походили на своего рода математическое чудо, зачарован которым в первую очередь оказался сам Феликс Клейн.
Особую же притягательность чуду, как это часто бывает, придавала загадочная тайна. Многие из подобных объектов, возникавших в ходе исследований, оказывались настолько сложны, что Клейн был вынужден констатировать «отказ воображения»:
Вопрос в том… каково будет положение предельных точек. Несложно ответить на него с чисто логической точки зрения. Однако когда мы пытаемся мысленно представить себе результат, воображение, кажется, полностью отказывает.
После этих слов становится более понятным, наверное, что когда в распоряжении у математиков появился персональный компьютер, предоставивший возможности для вычислений в немыслимых прежде масштабах, то вскоре вспомнили и о давней загадке. Как пишет в предисловии к своей книге Мамфорд, соблазн воспользоваться современной компьютерной графикой, чтобы воочию увидеть «совершенно невообразимые» замощения Клейна, был непреодолим…
*
За последние десятилетия в ходе исследований в самых разных областях физики было установлено, что клейновские замощения оказываются непосредственно связаны с современными идеями о поведении хаотических самоподобных систем, наблюдаемых и в статистической механике, и при исследованиях фазовых переходов, и при изучении турбулентности в жидкостях и газах.
Важнейшим отличием клейновых структур от хаотических физических систем является то, что в физике самоподобное поведение порождается случайными возмущениями, а в работе Клейна оно подчиняется простым и строго детерминированным законам.
Красиво объединить эти вещи помогло великое математическое открытие, сделанное с помощью компьютера и получившее название фрактальная геометрия. Компьютерная графика позволила исследователям воочию увидеть, что совсем простые, в сущности, математические соотношения при бесконечных их повторениях-итерациях порождают чрезвычайно сложное поведение системы, одновременно предсказуемое и хаотическое – так называемый детерминированный хаос.
Для многих физических явлений новые математические подходы позволили выстраивать более точные модели, нежели классические специальные функции. При этом важно подчеркнуть, что одной из отличительных черт хаотических явлений оказывается самоподобие – когда структуры, наблюдаемые в целом, бесконечно повторяют себя во все меньшем и меньшем масштабе.
Книга Мамфорда посвящена всего лишь одному и довольно узкому, казалось бы, направлению исследований – с помощью компьютера изучается семейство исключительно симметричных форм, которые возникают при взаимодействии двух спиральных движений весьма особенного вида.
Конкретно данные формы были выбраны исследователями по той причине, что именно они своей красотой и сложностью заворожили в свое время великого геометра Феликса Клейна, мечтавшего понять, как они выглядят «в пределе».
Исследования подтвердили, что в любом масштабе – от самого большого и до микроскопически маленького – эти формы представляют собой сложные фрактальные структуры. Иногда взаимодействие двух спиральных движений вполне регулярно, иногда оно совершенно беспорядочно, но при некоторых значениях параметров – и это самый интересный случай – его структура формируется слой за слоем, балансируя на самой грани хаоса.
Выстроив же с помощью компьютера итоговый рисунок фрактала – предельное множество одной из симметричных итеративных процедур Клейна – исследователи, покоренные красотой результата, не смогли удержаться и дали ему возвышенно-поэтическое название «сияющий предел».
Всякая часть любой из таких фрактальных структур содержит в себе суть целого. Опираясь на популярно написанную книгу Мамфорда, любой грамотный пользователь компьютера ныне может написать программу, позволяющую все сильнее и сильнее увеличивать произвольный фрагмент изображения, и наблюдать все ту же кружевную структуру, повторяющую себя на все более и более тонком уровне – демонстрируя миры внутри миров внутри миров и так далее…
*
Как это часто бывает с глубокими и вдохновенными исследованиями, на каком-то из этапов своей работы ученые как бы случайно наткнулись на весьма древний образ, поразительно созвучный их собственным результатам.
Образ этот носит название «сеть Индры» и, можно сказать, пронизывает собой весьма известное у буддистов произведение под названием «Аватамсака-сутра» – один из богатейших и наиболее сложных текстов дальневосточного буддизма школы Хуаянь.
В переводе на русский язык соответствующий фрагмент сутры выглядит примерно так:
В небесах великого бога Индры есть, говорят, гигантская и мерцающая сеть, тоньше чем паутина, протянувшаяся до самых отдаленных краев пространства. В каждом из пересечений прозрачных нитей этой сети находится отражающая мир жемчужина. Поскольку сеть бесконечна в своей протяженности, количество жемчужин бесконечно огромно.
В блистающей поверхности каждой жемчужины отражаются все прочие жемчужины, даже те, что находятся в самых отдаленных уголках небес. А в каждом таком отражении вновь отражается все бесконечное множество других жемчужин. И таким образом процесс отражения в отражениях продолжается без конца…
Как комментируют это открытие сами исследователи, они обнаружили, что вся математическая конструкция Клейна, включающая одинаковые структуры, бесконечно повторяющиеся друг в друге во все уменьшающемся масштабе, удивительным образом воспроизводит философию и образы «Аватамсака-сутры».
Несколько углубившись в наследие восточной мудрости, математики обнаружили следующий комментарий к соответствующему фрагменту (в книге Ф. Кука «Буддизм Хуаянь: драгоценная сеть Индры»,):
В школе Хуаянь очень любят этот образ, неоднократно упоминающийся в текстах школы; он символизирует космос, в котором между всеми его элементами есть бесконечно повторяющиеся связи. Считается, что подобная взаимосвязь выражает одновременно взаимное тождество и взаимную обусловленность.
И еще один комментарий сведущего эксперта – от сэра Чарльза Элиота :
Таким же образом каждый объект в мире есть не просто он сам, он включает в себя любой другой объект и по существу является любым другим объектом.
Подводя своего рода итог этому удивительному параллелизму, Дэвид Мамфорд говорит об открытии так:
В [нашей] книге нет никаких религиозных мотивов, однако поразительно, насколько точно наши математические построения воспроизводят древнюю буддистскую метафору сети Индры, спонтанно создающей отражения внутри других отражений, бесконечную череду миров внутри других миров…