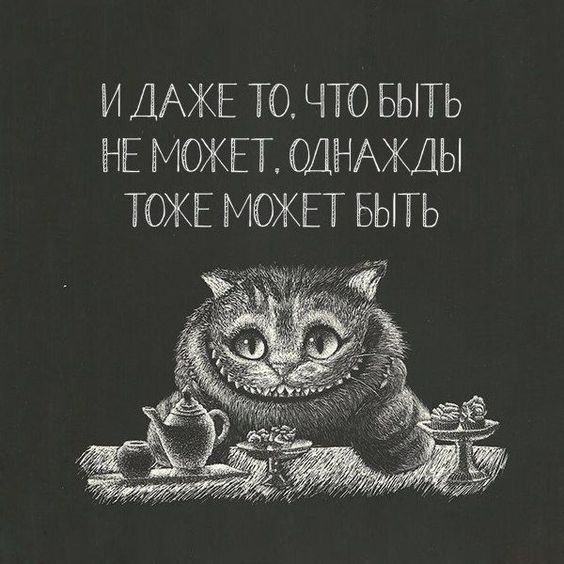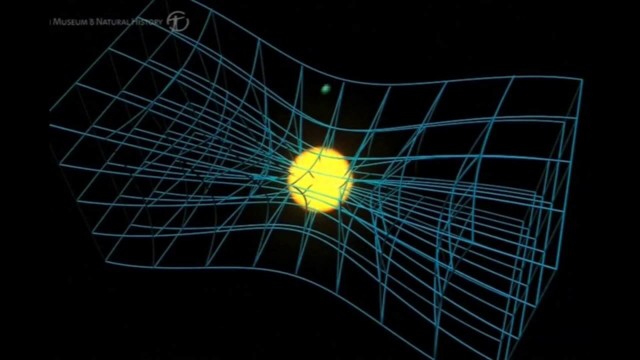Что такое Сознание? Откуда оно и для чего оно.
https://cont.ws/@sage/2593512
Одной из центральных тем нашего века является сознание. Мистики, ученые, философы обращали свои взоры на эту неуловимую сущность, но, похоже, никто не в состоянии точно сказать, что это такое.
Если вы посмотрите “сознание” в словаре, вы часто обнаружите, что оно определяется по кругу такими терминами, как “осознанность” и “восприятие”. Быть сознательным — значит воспринимать; воспринимать — значит осознавать; быть осознающим — значит быть сознательным; и так далее.
По общему признанию, трудно определить основные термины без некоторой округлости: правое противоположно левому, а левое противоположно правому. Но сознание особенно проблематично, потому что оно занимает центральное место в нашей жизни и опыте.
Более того, никто никогда не выяснял, как человеческий мозг производит сознание(*как думает наука). В недавнем выпуске журнала Scientific American нейробиологи Кристоф Кох и Сьюзан Гринфилд подводят итог текущему уровню знаний, когда пишут: “Нейробиологи еще недостаточно понимают внутреннюю работу мозга, чтобы точно объяснить, как сознание возникает из химической и электрической активности нейронов” (выделено ими).
Нейробиологи знают, что мозг влияет на сознание, но это было известно еще в пятом веке до нашей эры, когда в тексте Гиппократа о священной болезни утверждалось (радикально для того времени), что эпилепсия не была вызвана божественной одержимостью: скорее “мозг является причиной этого заболевания, как и других очень серьезных заболеваний”.
Если у вас есть какие-либо сомнения на этот счет, вы можете доказать это сами, выпив залпом три или четыре рюмки водки: когда тело пьет алкоголь, пьянеет и разум. Исследования неврологических механизмов, регулирующих эти процессы, добавляют больше деталей, но не дают большего понимания того, что философы называют “проблемой разума-мозга”.
Лично я считаю, что это в значительной степени потому, что до сих пор никто четко не определил, что такое сознание.
Грегори Сэмс разделяет общее мнение, когда пишет в сентябрьско-октябрьском номере журнала New Dawn за 2009 год: “Не существует общепринятого стандартного определения сознания. Мистики и философы посвятили ему книги или суммировали его двумя словами ‘сознание есть’.”
Я хотел бы предложить очень простое, но, я полагаю, чрезвычайно плодотворное определение: сознание — это способность соотносить себя и других.
Откуда мы это знаем? Это довольно просто. Если нет ощущения противопоставления себя другим, то нет и сознания. Наиболее очевидным примером является состояние глубокого сна без сновидений. В это время вы находитесь без сознания, и у вас нет ощущения себя или другого – даже того неуловимого и слабого ощущения себя, которым мы обладаем во сне.
Однако, как только мы это скажем, мы осознаем, что сознание, эта способность соотносить себя и других, допускает бесчисленные градации. Вы не осознаете физический мир, когда спите, но вы все еще обладаете своего рода сознанием. Даже сон без сновидений не совсем лишен этого качества. Что, в конце концов, является наиболее универсально предписываемым средством от всех видов недугов? Сон, который позволяет “я” тела бороться с “другими”, известными как патогены.
Мы можем пойти дальше. Любой, имеющий хотя бы малейший опыт общения с животными, знает, что они тоже способны устанавливать отношения между собой и другими. Собаки и кошки не могут рассуждать иначе, как в самом элементарном смысле, и все же у них есть эмоциональная жизнь, которая достаточно похожа на нашу собственную, чтобы быть более или менее понятной.
Можем ли мы тогда сказать, что они обладают сознанием, не таким, как мы, но тем не менее сознательными? Как насчет более примитивных существ, вплоть до растений и даже простейших? Мы можем быть совершенно уверены, что они не занимаются картезианским самоанализом, но их яростная привязанность к жизни, к сохранению собственного существования указывает на то, что у них тоже есть некоторое представление о себе вне зависимости от внешнего мира.
Как и многие открытия последних нескольких столетий, эти прозрения, похоже, разрушают человеческое чувство привилегии быть единственными обладателями великолепного дара, называемого сознанием, но есть и некоторые утешения. Проблема человеческого сознания становится менее запутанной, если мы рассматриваем его не как нечто таинственно возникшее из ниоткуда, а как этап в континууме. Более того, если принять это близко к сердцу, такой взгляд может помочь смягчить чувство изоляции, которое является неприятным побочным эффектом нашего высокомерного чувства уникальности.
Где же тогда мы проводим черту? В неодушевленных вещах? То, что, по-видимому, неодушевленные объекты содержат рудиментарную форму сознания, давно известно философии Индии.
Британский ученый сэр Джон Вудрофф объясняет это так: “В минеральном мире Cit [сознание] проявляется как низшая форма чувствительности, проявляющаяся в рефлекторной реакции на раздражители, и то физическое сознание, которое на Западе называют атомной памятью”. Эта якобы восточная идея появляется и на Западе, иногда в неожиданных местах. Вот выдержка из интервью 1890 года с Томасом Эдисоном американского писателя Джорджа Парсонса Латропа:
“Я не верю, — сказал [Эдисон], — что материя инертна, на нее воздействует внешняя сила. Мне кажется, что каждый атом обладает определенной долей примитивного разума. Посмотрите на тысячи способов, которыми атомы водорода соединяются с атомами других элементов, образуя самые разнообразные вещества.
“Вы хотите сказать, что они делают это без разума?… Собранные вместе в определенных формах атомы образуют животных низших порядков. Наконец, они объединяются в человеке, который представляет собой совокупный разум всех атомов”.
“Но откуда изначально взялся этот разум?” Я спросил.
“От какой-то силы, большей, чем мы сами”.
Перефразируя суть, мы могли бы сказать, что атом водорода “знает”, как распознать атом кислорода и, при определенных обстоятельствах, как соединиться с ним, образуя воду. Оно может, так сказать, воспринимать что-то вне себя и соотноситься с этим; оно, в очень рудиментарном смысле, сознательно. Если бы атом не мог занять определенную позицию в физическом мире и провести своего рода границу между собой и тем, что им не является, он не мог бы существовать.
Возможно, в этом секрет тех разреженных субмолекулярных частиц, о которых так соблазнительно рассуждает современная физика. Кажется, что они возникают и исчезают из существования или, в определенных случаях, вообще не существуют, если их не наблюдать.
Создается впечатление, что их самоощущение настолько хрупко и неоднозначно, что для его возникновения требуется внешний воспринимающий, подобно тому, как англо-ирландский епископ и философ восемнадцатого века Джордж Беркли утверждал, что вселенная исчезла бы, если бы Бога не было рядом, чтобы ее воспринять.
Противопоставление себя другим лежит в основе всего нашего восприятия мира. В человеческом контексте это произвело очень странный эффект: всепроникающее ощущение, что что-то не так. Действительно, мы могли бы сказать, что человек — это животное, которое считает, что что-то не так.
Пословица говорит нам: “У человека может быть много проблем; у голодного человека есть только одна”. Конечно, но если голод человека удовлетворен, на сцену выходят другие проблемы, которые ждали своего часа.
Судя по всему, это не относится к другим видам – собака или кошка, которым тепло и хорошо, и которые находятся в комфортных условиях, похоже, не осознают никаких проблем. (Мы часто завидуем им за это.) Ощущение того, что само существование проблематично, лежит в основе практически каждой религии – называет ли она эту проблему “грехом”, или “Падением”, или “сансарой”, или “майей”. Оно также не устраняется, если мы уберем религию из картины; тогда это просто называется чем-то вроде “экзистенциальной тревоги”.
Что это за “что-то неправильное”? Чтобы сделать чрезвычайно широкое обобщение, западная религия склонна изображать его в терминах морали – главным образом греха. В какой-то момент человек решил идти своим собственным путем, отдельно от Бога, и с тех пор он пребывает в юдоли слез.
Восточные религии, с другой стороны, склонны изображать эту проблематичную природу существования в когнитивных терминах. Это вопрос иллюзии или невежества. Как я уже сказал, это чрезвычайно широкое обобщение, и можно найти много исключений. Сократ и Платон, например, отцы западной философии, говорили, что состояние человека характеризуется невежеством и заблуждением. Но в целом это обобщение справедливо.
Моральный аспект состояния человека был переоценен на Западе. Без сомнения, во Вселенной существует моральное измерение – называем ли мы это Дао, дхармой, волей Бога или как-то еще – и в пределах этого измерения возможно творить зло.
В то же время, кажется преувеличением говорить, что мы зачаты и рождены во грехе, как это слишком часто делало традиционное христианство. Создается впечатление, что христианство создало первородный грех как проблему, для решения которой оно могло бы затем предложить себя. Это как если бы врач придумал болезнь, от которой, конечно, только у него было бы лекарство.
В таком случае, для современной западной цивилизации имело бы смысл более глубоко изучить когнитивную природу этой проблемы, и фактически именно этим занимаются многие люди. Популярность буддизма и определенных форм индуизма, таких как Адвайта-Веданта, указывает на это.
В этом контексте, возможно, можно было бы более четко сказать, какое отношение имеет эта проблематичная природа существования к отношению «я» и «другого», которое мы называем сознанием. Одним из самых глубоких мифов, проливающих свет на этот вопрос, взятым из индуистской традиции, является любопытная история об игре Шивы в кости.
Однажды объятия индуистского бога Шивы и его супруги Парвати, которые провели вечность в любовных утехах, прерывает зловещий йог по имени Нарада. Нарада говорит, что он может показать им нечто еще более восхитительное, чем любовь. Это игра в кости – предок современного Парчизи.
Заинтригованная его предложением, божественная пара начинает играть. Каждый из них жульничает как можно больше, но независимо от того, как долго они играют, результат всегда один и тот же: Шива проигрывает, а Парвати выигрывает. Шива может иметь преимущество в раунде или двух, но он никогда не сможет выиграть игру.
В какой-то момент Шива оказывается впереди; он выиграл пару драгоценностей Парвати, приводя ее в ярость. Заметив, что чем злее она становится, тем красивее становится, он уговаривает ее продолжить. Парвати соглашается сыграть, если Шива поставит на кон свои главные атрибуты: трезубец, полумесяц и пару сережек.
Конечно, Шива играет и проигрывает. Но он отказывается принять этот факт; в конце концов, он — Шива, владыка вселенной. “Ни одно живое существо не может победить меня”, — говорит он ей. Она отвечает: “Ни одно живое существо не может победить тебя, это правда – кроме меня”. Несмотря на это, она уходит от него. Она забирает не только трезубец, луну и серьги, но и пару змей и даже последний предмет его одежды — набедренную повязку.
Шива не испытывает беспокойства. Он удаляется в пустыню и ведет жизнь аскета, свободного от мирских забот, медитируя в уединенном покое. Парвати, с другой стороны, чувствует себя одинокой и разочарованной без него. Намереваясь вернуть его, она принимает облик прекрасной женщины из племени (неприкасаемой в индуистской кастовой системе) с красными губами, изящной шеей и великолепной полной грудью. Она так прекрасна, что даже пчелы в лесу переполнены любовью.
Шива, выведенный из своей медитации шумом пчел, видит Парвати в облике женщины племени и охвачен желанием обладать ею. Кокетливо она говорит: “Я ищу мужа, который всеведущ, который свободен и удовлетворяет все потребности, который свободен от мутаций и является господом миров”.
Шива говорит: “Я есть тот единственный”.
Парвати отвечает: “Тебе не следует так со мной разговаривать. Я случайно знаю, что у тебя есть жена, которая завоевала твою преданность многими аскезами, и ты бросил ее в мгновение ока. Кроме того, вы аскет, живущий свободно от двойственности”.
“Несмотря на это, я хочу тебя”.
Парвати говорит, что он должен спросить разрешения у ее отца, Гималая, владыки горной цепи. Шива подходит к нему, но Гималайя говорит: “Это неправильно. Тебе не следует спрашивать меня. Ты тот, кто дает все во всех мирах”.
В этот момент снова появляется Нарада и говорит Шиве: “Послушай. Увлечение женщинами всегда приводит к насмешкам”.
“Ты прав”, — отвечает Шива. “Я был дураком”. И Шива удаляется в отдаленную часть вселенной, куда не могут попасть даже йоги.
В этот момент Нарада убеждает Парвати и Гималайю умолять Шиву вернуться, и они делают это, щедро восхваляя его. Успокоенный, Шива возвращается, и он и Парвати возобновляют свое правление в единстве.
В отличие от Эйнштейна, этот миф, похоже, утверждает, что Бог не только играет в кости со Вселенной, но и постоянно проигрывает. Почему Шива, владыка вселенной, должен поддаваться соблазну потворствовать разновидности раздевания Парчизи? Как он может проиграть? Кто его супруга? Почему она выигрывает?
По сути, мы могли бы сказать, что Шива представляет сознание – то, что индуистская традиция часто называет пурушей. Иногда переводимое как “дух”, оно означает сознание в смысле гораздо более универсальном, чем простое человеческое осознание. Парвати представляет пракрити. Иногда это слово переводят как “материя” или “природа”, но оно означает нечто гораздо более всеобъемлющее – содержание сознания, опыт во всех его формах, внутренних и внешних – то, что эзотерическое христианство называет “миром”.
В начале мифа они заключены в единстве. Нет различия между сознанием и его содержимым. Следовательно, мира нет. Индусы называют это состояние пралайей, состоянием изначального сна, которое преобладало до того, как вселенная пробудилась к проявлению. Это описано в индуистском священном писании, известном как Ригведа:
Тогда [до начала]
не было ни смерти, ни не-смерти,
никаких признаков ночи или дня.
Единое дышало, затаив дыхание,
благодаря своему собственному побуждению,
и не было никакого Другого какого-либо вида.
Обратите внимание, что именно отсутствие “Другого” характеризует этот изначальный покой. Игра в кости, введенная Нарадой, олицетворением раздора, символизирует начало проявления.
Никакое проявление не может существовать без различия между собой и другими. Но это различие не является свойством только сознательных субъектов, такими, какими мы себя представляем. Оно характерно для всего, потому что, как я уже указывал, даже атом или электрон должны обладать некоторым самоощущением просто для того, чтобы вообще существовать. Оно должно воспринимать другого, чтобы отличать себя от этого другого и таким образом поддерживать стабильное существование.
Таким образом, фундаментальная динамика реальности — это динамика Шивы и Парвати: сознания, или самости, во всех ее формах, и опыта, или другого, во всех его формах. В конце концов, если сознание состоит из способности соотносить себя и другого, эта полярность является и должна быть первичной. Если нет себя и другого, то нет и вселенной.
Ничто в проявленном существовании не является абсолютно самостью или другим. Это просто вопросы перспективы. Атом водорода обладает некоторым сознанием, о чем свидетельствует его способность распознавать атом кислорода и взаимодействовать с ним при определенных обстоятельствах с образованием воды и других соединений. С его точки зрения, оно является самостью, а атом кислорода — другим.
Для атома кислорода дело обстоит с точностью до наоборот: атом водорода — это другой, точно так же, как я другой для вас, а вы другой для меня. Этот факт указывает на то, что отношение между собой и другими, между “Я” и “миром” снаружи является постоянным, динамичным взаимодействием для всех сущностей на всех масштабах и уровнях сложности. Мы можем найти метафору для этого в игре, известной как Отелло, или Переворачивание, в которой используются диски, черные с одной стороны и белые с другой.
Каждый игрок по очереди раскладывает их по сетке, и выигрывает игрок, у которого в конце игры на доске окажется больше дисков его собственного цвета. Если, скажем, вы черный игрок и вам удается закрыть ряд белых дисков своими собственными черными дисками с обоих концов, весь ряд белых дисков становится черным. В ходе игры целые ряды дисков меняют цвет с белого на черный и обратно. Этот процесс намекает на постоянно меняющееся соотношение «я» и «другого», которое преобладает во вселенной на всех уровнях.
Но вернемся к игре в кости, где оно уместно? И почему Шива всегда проигрывает?
Шива представляет то, что одна из Упанишад называет “провидцем видения”.5 Видение во всех его формах – то есть сознание – придает миру существование. Ничто не существует, пока его не увидишь.
Парадоксально, но сюда входят собственные атрибуты Шивы. Строго говоря, они не принадлежат сознанию, которое в своей чистой форме не имеет атрибутов; оно просто видит. (Это может объяснить, почему философы терпят неудачу в своих попытках дать ему определение.) Любые качества, которые мы можем приписать сознанию, видны сразу; они являются частью мира; а мир — это Парвати.
И поэтому Парвати всегда побеждает. Ее победа обнажает Шиву до его чистой, обнаженной сущности, которая есть видение в одиночестве. При всех возможных бросках костей – то есть при всех возможных направлениях, которые может принять проявление, – Шива всегда будет проигрывать.
Тем не менее, Шива принимает свое поражение с апломбом и просто отступает в лес. То есть сознание может отделиться от своего опыта; оно может освободиться от своего собственного содержания. Эта отрешенность является целью многих форм медитации. Это объясняет, почему Шиву описывают как аскета.
Теперь рассмотрите свой собственный опыт. Скорее всего, вы не осознаете себя, кроме как как часть смутного фона. Но если вы направите свое внимание на себя, вы сможете почувствовать себя “Я”, переживающим. Многие из них сенсорные: эта комната, этот стул, этот журнал. Вы можете пойти еще глубже.
Вы можете осознавать свои мысли и чувства по мере того, как они проходят через экран вашего осознания (что, как правило, легче сделать, если вы закроете глаза). Если вы можете осознавать даже эти самые личные и сокровенные мысли как некое “другое”, тогда где же “Я”? Кто или что это такое? У него нет атрибутов как таковых, никаких качеств; оно просто видит. Поэтому индуистский мудрец Шри Рамана Махарши говорит, что вопрос “Кто я?”, если отойти достаточно далеко, приведет к просветлению.
Просветление в обычном понимании — это туманная концепция. О нем можно сказать только то, что это более высокое состояние сознания, чем мы привыкли или, если уж на то пошло, обычно считаем возможным. Однако в свете идей, которые я в общих чертах изложил, мы могли бы сказать немного больше.
Сознание, которое вызывает возникновение мира, является общим для всех вещей, человеческих и нечеловеческих, одушевленных и неодушевленных; нет ничего, что не обладало бы им в той или иной степени. Но мы почти никогда не переживаем его таким универсальным способом. Напротив, это всегда я, мое сознание, огороженное жесткими линиями, чтобы изолировать его от всех остальных.
Именно это жесткое различие, которое в значительной степени искусственно и иллюзорно, составляет проблематичную природу существования, ощущение чего-то неправильного, которое пронизывает наши души. Как сказал греческий мудрец Гераклит: “Сознание является общим для всех, но большинство людей живут так, как если бы у них был свой собственный разум”.
Просветление, казалось бы, заключается именно в признании этих истин, не концептуально, а непосредственно и интуитивно. Оно может прийти и часто приходит мгновенно. Такое понимание может быть ослепительным для того, кто его переживает, но может и не быть.
Я подозреваю, что у многих людей оно появляется “как вор в ночи”, и они отбрасывают его в сторону, веря, что просветление означает, что небеса открываются и человек видит лестницы, полные ангелов, поднимающихся и спускающихся, или что он мгновенно становится всеведущим.
В любом случае, этот опыт прозрения – называем ли мы это просветлением, озарением, гнозисом или как-то еще – знаменует фундаментальный сдвиг в ориентации человека. Впоследствии она не обязательно становится невосприимчивой к превратностям судьбы: радости и печали, боли и огорчения приходят так же, как и всегда.
Но неуловимым образом они потеряли свою власть над ней. Они больше не являются абсолютами, которые следует принимать за чистую монету. Она осознает измерение ума, которое выше мимолетных острых ощущений и раздражений существования.
Это сверхреально, и его никогда нельзя отнять, и поэтому его следует ценить превыше всего. Как Христос говорит об этом в Евангелиях: “Царство Небесное подобно сокровищу, сокрытому на поле: найдя которое, человек прячет и от радости идет и продает все, что имеет, и покупает то поле” (Матфея 13:44).
Автор Ричард Смоули